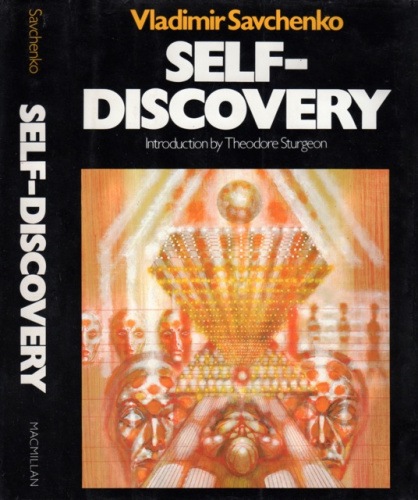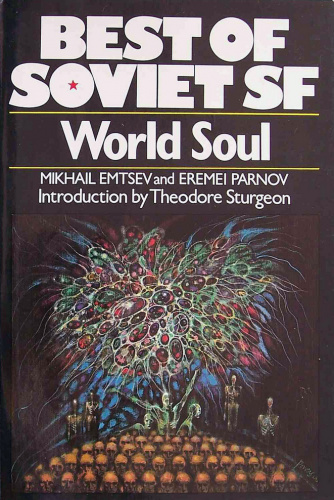Роберт Антон Уилсон в «Космическом триггере» описывает свою реакцию на различные события как реакцию Автора, Скептика, Мудреца, Невролога, Шамана и других персонажей. Разумеется, всё это — сам Уилсон, а не тот случай «множественной личности», который получил известность благодаря доктору Мортону Принсу в начале этого века; всё это — разные стороны единого человеческого существа, а не множества отдельных сущностей.
Кто внутри вас спокойно наблюдает, как вы впадаете в ярость, или погружаетесь в экстаз, или завоёвываете публику? Вы, как и многие, понимаете под этим кем-то «маленького человека, который наблюдает» или «часть меня, которая всегда наблюдает, но никогда не участвует»?
(И почему многие описывают этого наблюдателя как маленького человека? Я иногда подозреваю, что мой как раз большой — может быть, даже больше меня.)
Вот такие вопросы — вопросы-провокации — ставит Владимир Савченко и его потрясающий роман, ибо в основе повествования — проблема самости и личностной идентичности. Кривошеин, блестящий молодой экспериментатор в области кибернетики, герой романа, открывает способ дублирования людей и, работая тайно, выпускает в мир множество версий самого себя.
Так что вы встретите здесь много Кривошеиных; но они никоим образом не идентичны. Это не клонирование и не то дублирование, которое описал Эрик Темпл Белл в «Четырёхстороннем треугольнике»*, и не то невероятное, что использовал я в повести «Когда заботишься и любишь…». Это нечто совсем иное и, насколько я знаю, уникальное. Это управляемая компьютером биологическая матрица, если хотите, разумная жидкость, способная организовывать, связывать, балансировать органические субстанции. Прибавьте сюда новый концепт — голографическую модель применительно к функциям мозга, в которой каждая ячейка секции, похоже, содержит все функции этой секции, точно так же, как каждый сегмент голограммы содержит все части изображения, — и вы приблизитесь к пониманию научных достижений Кривошеина. Выписано увлекательно и с таким реализмом, что возникает соблазн подать заявку на грант, сконструировать эту штуку и испытать её.
Подать заявку на грант. Савченко вплёл в своё повествование восхитительный и сокрушительный анализ внутренней политики крупного исследовательского центра, занимающегося фундаментальной наукой, постичь которую у политиков нет ни шанса, но однако ж, научное сообщество должно обращаться к ним за финансированием. Затем следует точно такая же ужасная ситуация, которую столь блестяще описал — разоблачил? — Лео Сцилард, забрав лучших учёных из лаборатории и поместив их в администрацию, где они должны работать плечом к плечу с администраторами, которые в лаборатории были бы совершенно беспомощны. Миллионы слов написаны о различиях в обычаях, культурах, политических системах, философиях; как удивительно видеть, насколько похожи симптомы этой чумы, где бы она ни разразилась! Невежество — это невежество, напыщенность — это напыщенность, и самовозвеличивание — звучит одинаково на всех языках, так же как и фрустрация. Кто, читая роман, не узна́ет администратора Гарри Хилобока или, например, внешне сварливого, но внутренне чувствительного Андросиашвили, тот никогда и нигде не был знаком с внутренней работой крупных исследовательских центров.
Давно замечено, что писатель пишет, как правило, об одном и том же, повторяя его вновь и вновь, вне зависимости от того, насколько широк спектр его тем и сюжетов или сколько различных художественных приёмов он использует. Я, к сожалению, не знаком с другими работами Савченко, но здесь направленность его творчества выглядит вполне ясной. Позвольте привести несколько цитат:
«Человек — самая сложная и самая высокоорганизованная система из всех нам известных. Я хочу в ней разобраться целиком: как всё построено в человеческом организме, как связано, что на что влияет…»
«— Видите ли… когда-то было всё не так. Зной и мороз, выносливость в погоне за дичью или в бегстве от опасности, голод или грубая нестерильная пища типа сырого мяса, сильные механические перегрузки в работе, драка, в которой прочность черепа проверялась ударами дубины, — словом, когда-то внешняя среда предъявляла к человеку такие же суровые требования, как… ну, скажем, как сейчас военные заказчики к аппаратуре ракетного назначения… Такая среда за сотни тысячелетий и сформировала «хомо сапиенс» — Разумное Позвоночное Млекопитающее. Но за последние двести лет, если считать от изобретения парового двигателя, всё изменилось. Мы создали искусственную среду из электромоторов, взрывчатки, фармацевтических средств, конвейеров, систем коммунального обслуживания, транспорта, повышенной радиации атмосферы, электронных машин, профилактических прививок, асфальтовых дорог, бензиновых паров, узкой специализации труда… ну, словом, современную жизнь. Как инженер, и я в числе прочих развиваю эту искусственную среду, которая сейчас определяет жизнь «хомо сапиенс» на девяносто процентов, а скоро будет определять её на все сто — природа останется только для воскресных прогулок. Но как человек я сам испытываю некоторое беспокойство…»
«Эта искусственная среда освобождает человека от многих качеств и функций, приобретённых в древней эволюции. Сила, ловкость, выносливость нынче культивируются только в спорте, логическое мышление, утеху древних греков, перехватывают машины. А новых качеств человек не приобретает — уж очень быстро меняется среда, биологический организм так не может. Техническому прогрессу сопутствует успокоительная, но малоаргументированная болтовня, что человек-де всегда останется на высоте положения. Между тем — если говорить не о человеке вообще, а о людях многих и разных — это уже сейчас не так, а далее будет и вовсе не так. Ведь далеко не у каждого хватает естественных возможностей быть хозяином современной жизни: много знать, многое уметь, быстро выучиваться новому, творчески работать, оптимально строить своё поведение…»
«[Я хотел бы] изучить как следует вопрос о неиспользуемых человеком возможностях своего организма. Ну, например, отживающие функции — скажем, умение наших с вами отдалённых предков прыгать с дерева на дерево или спать на ветке. Теперь это не нужно, а соответствующие нервные клетки остались. Или взять рефлекс «мороз по коже» — по коже, на которой почти уже нет волос. Его обслуживает богатейшая нервная сеть. Может, удастся перестроить, перепрограммировать старые рефлексы на новые нужды?»
Какая удивительная, какая захватывающая концепция! В стремлении к «совершенному человеку» Савченко, конечно, не оригинален; оно уже многие годы процветает в научной фантастике, в том числе в той, что называется мейнстримом, оно питает нынешний бурный поток самореализации и самоактуализации; оно существует у Шекспира и Стейнбека, будь то примеры благородства или суровые образы несовершенных и порочных людей. По-настоящему поражает идея Савченко извлечь и перепрограммировать то, что в человечестве присутствует, но действительно устарело, а не то, что могло бы функционировать, но просто бездействует.
И он сопротивляется такому reductio ad absurdum; посмотрите на этот причудливый обмен репликами:
«— Так! Значит, мечтаете модернизировать и рационализировать человека? Будет уже не «хомо сапиенс», а «хомо модернус рационалис», да? А вам не кажется, дорогой системотехник, что рационалистическим путём можно превратить человека в чемодан с одним отростком, чтобы кнопки нажимать? Впрочем, можно и без отростка, с управлением от биотоков мозга…
— Если уж совсем рационалистически, то можно и без чемодана, — заметил Кривошеин».
Кривошеин и Савченко слишком влюблены в человечество, чтобы пойти на это.
Научную фантастику называют лекарством от футурошока, шока будущего. Футурошок — это чувство дезориентации, вызванное стремительным ростом числа изобретений, воздействием технических новинок, развивающихся бесконечно быстрее, чем тело и мозг обычного человека. Интересно, читал ли Савченко Элвина Тоффлера (который придумал этот термин)**, хотя и понятно, что в этом нет необходимости: явление и его последствия вполне очевидны для любого, кто захочет взглянуть. Писатели-фантасты и их всё более многочисленные и пристрастные читатели — это и есть те, кто хочет взглянуть. Они опытным взглядом смотрят не только на то, что есть и что будет, но и на завораживающую бесконечность того, что могло бы быть: альтернативные миры, альтернативные культуры и нравы, экстраполяции известного, будь то космические полёты, трансплантация органов, социальное обеспечение, экологическое сознание или любое другое течение, идея или сила в вечно движущейся Вселенной: если это будет продолжаться, то куда оно приведёт? Ибо застой, и только застой, неестественен и недостижим, и терпит неудачу каждый раз, когда человечество испытывает искушение испробовать его. Сама природа научной фантастики заключается в том, чтобы осознать это и признать, что единственная безопасность — в динамическом равновесии, как у чайки в полёте, у планеты на орбите, у сбалансированно вращающихся галактик… и, конечно, очевидный факт, что клетки вашего тела и молекулы, из которых они состоят, совсем не те, что были в тот момент, когда вы взяли в руки эту книгу. Будущее может шокировать только тех, кто зациклен на застое.
(К слову, писатели-фантасты не застрахованы от футурошока, хотя он может выражаться в непреодолимом желании дать себе пинка. Пример: до самого недавнего времени, насколько я знаю, не было ни одного научно-фантастического рассказа, в котором фигурировало бы устройство, подобное наручным часам, какие носит моя жена, которое показывает время, день недели, дату, настраивается на месяцы различной продолжительности, служит секундомером и регистратором прошедшего времени, а также имеет солнечную батарею, которая поглощает любой доступный свет и заряжает аккумулятор. Разработка этих микроэлектронных устройств, ныне довольно распространённых и недорогих, была просто немыслима для профессионалов научной фантастики, и это далеко не единственный пример технологического квантового скачка, который охлаждает наше высокомерие. Всем заинтересованным сторонам выгодно, когда властители умов время от времени подскальзываются и садятся в лужу.)
Такие лужи, или их повествовательный эквивалент, вполне присутствуют и в этой книге, ведь Савченко обладает отменным чувством юмора и прекрасно понимает, что такое эпатаж. Представим, например, что вы — блестящий, но не слишком привлекательный мужчина, которого мало волнуют всякого рода удовольствия и которого любит прекрасная и всепрощающая дама. В ходе своей работы вы создаёте живую, дышащую версию себя, которая физически прекрасна как Адонис и которая, кроме того, чётко помнит каждое слово, каждую близость, которая когда-либо была между вами и этой женщиной.
И вот они встречаются, и он ей нравится.
Как вы себя почувствуете?
И почему?
А вот Онисимов — бедный, преданный, верный долгу Онисимов — сыщик, в чьих жилах течёт сущность Кистоунского Копа***, — сталкивается с делом, имеющим вполне рациональное решение, которое он совершенно не в состоянии раскрыть — и вовсе не потому, что не может его понять, а потому, что просто не может в него поверить.
А вот и обидчивый Хилобок, к сожалению (как было сказано выше), не совсем пародия, но объект нередких случаев неудержимого паясничанья Кривошеина/Савченко, и Старик Вахтёрыч — конечно же, Розенкранц и Гильденстерн в одном лице, — и прекрасная россыпь улыбок среди каскадов сложных идей.
Однако над всем этим — над умопомрачительными идеями, неожиданными поворотами повествования, широким спектром характеристик, юмором, саспенсом — сияет любовь автора к человеческому роду и вера в него. Когда он говорит через своего главного героя, он говорит не о человеке, а о человечестве. И в конце, в самых последних словах романа, звучит эта вера и этот оптимизм.
Сейчас, кстати, не стоит открывать последнюю страницу и смотреть на эти последние слова. Они не будут иметь для вас какого-либо смысла, пока вы не прочитаете роман.
—Теодор Старджон, Лос-Анджелес, 1978
===============================================================================
* Ошибка Т. Старджона: имя автора «Четырёхстороннего треугольника» Уильям Ф. Темпл.
** Т. Старджон не замечает, что допускает анахронизм: фундаментальная работа Э. Тоффлера Future Shock увидела свет в 1970 году — три года спустя после первой публикации романа В. Савченко. (Уточнение.)
*** «Кистоунские копы» — вымышленные гротескно-некомпетентные полицейские, показанные в немых комедийных фильмах, снятых Маком Сеннеттом и его кинокомпанией «Кистоун» в период с 1912 по 1917 годы. (Примечания переводчика.)


 облако тэгов
облако тэгов